
Опыт социокультурного исследования
Исходные определения
Прежде чем непосредственно говорить об отечественном искусстве ХХ — начала ХХ1 века, следует очертить его место в русской духовной культуре — разумеется, применительно к теме настоящей работы.
Наряду с разумом (логосом) и волей (этосом), человек осуществляет себя в эстезисе – в достигнутом совершенстве сущего. Под совершенством мы будем понимать энергию духа, явленную как вещь (произведение), а под искусством — деятельность человека, направленную к такому произведению. Совершенство обнаруживается в любых личных и социокультурных практиках, где имеет место предметная встреча реальности с идеалом. Чистого искусства, вообще говоря, не бывает. Даже так называемое «рамочное» (музейное) художество не существует само по себе — есть нечто справа и слева, вверху и внизу. Религия, философия, нравственность, искусство — лишь грани единого по существу ценностно-познавательного акта. Такова исходная постановка вопроса об эволюции христианской темы в русском искусстве ХХ — начала ХХ1 века.
Христианская религия — это соборная и одновременно персональная вера в личного Бога-Творца, трансцендентного по отношению к человеку, но любящего его и дающего себя знать в откровении Бога-Сына, богочеловека Иисуса Христа. Как и всякая традиционная религия, христианство имеет свое вероучение (догматику), свою социальную идеологию, свою мистическую и нравственно-эстетическую практику (образ жизни), реализуемую прежде всего в Церкви, главой которой является сам Христос.
Культура — это область присутствия человека в мире, это произведенная человеком (имманентная ему) область существования. В духовном плане культура включает в себя миросозерцание (философию), искусство (эстетику), нравственность (этику) и науку (познание и знание). Наряду с духовными практиками, культура определяется также технологически-коммуникативной деятельностью человека, которую иногда (в отличие от духовной культуры) называют цивилизацией.
Искусство — это символическое воплощение духовного творческого дара человека в предметном материале мира.
Из сказанного вытекает, что основные уровни и коммуникативные практики культуры являются полем противостояния между восходящими и нисходящими энергиями религиозного происхождения. Выражаясь языком философии, беспредпосылочного искусства (как и науки) не существует. Художники — даже в случае подчеркнутого равнодушия к Богу — объективно исповедуют и утверждают (сознательно или бессознательно) в своем творчестве определенный духовный идеал. Иными словами, религиозно-ценностный акт является абсолютной и неустранимой предпосылкой любого художественного (и даже антихудожественного) творения. Одни художники верят, что Бог есть, другие — что Его нет, и осуществляют эту веру в своих произведениях. Третьего не дано.
Классика и проект модерна
Всякое искусство имеет свою классику — общезначимые и общепризнанные его достижения. Иными словами, классикой считается совершенство в своем роде, наиболее полно выражающее соответствующую исходную парадигму (порождающую модель) данного типа художественного сознания. Классика, в религиозно-философском смысле слова — это искусство под знаком вечности, sub specie aeternitatis. Это искусство перед лицом Бога. Естественно, что с христианской точки зрения классической литературой следует признать Библию, классической архитектурой — храм, классической живописью — икону, классической музыкой — церковную стихиру или хорал. В христианском духовном поле во главу угла ставится именно энергийное взаимораскрытие Творца и твари, Духа и символа, — их доверительный диалог («я и Ты»). В отличие от язычества, христианство есть усыновление твари небесным Отцом, и потому мерой единства всеобщего и уникального здесь оказывается любовь (она же истина и красота). На рисунке принципиальная схема классической — молитвенно восходящей к Богу — цивилизации выглядит так:
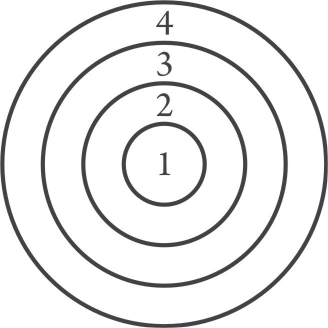
Рис. 1 Строение классической цивилизации
- Духовное ядро: вера в Бога, богочеловек
- Культура: религиозный этико-эстетический идеал
- Общество: сакральная государственность, священное царство
- Технология: централизованная производительная практика
Наиболее полного своего осуществления классическая христианская цивилизация достигает в европейском и русском Средневековье — от константинопольской Софии и «Божественной комедии» Данте до «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона и «Троицы» Андрея Рублева. Искусство здесь понимается как род молитвы, а подлинным автором храма или иконы считается сам Господь. Художник (часто безымянный) в средневековой классике выступает не более чем подмастерьем Творца Храмовый синтез искусств, в сущности, не нуждается в светской культуре, роль которой исполняет фольклор.
Решительные изменения в эту ситуацию вносит эпоха Возрождения — начало проекта модерна. Культура европейского Ренессанса решала ту же кардинальную для искусства проблему божественного и человеческого, однако решала её уже с гуманистической точки зрения, когда ценностную меру их соотношения определяет сам человек. Прямая (зрительная) перспектива Ренессанса — это именно стратегия превращения теоцентрической культуры в антропоцентрическую. Собор святого Петра в Риме или «Мона Лиза» Леонардо — это титанические автопортреты победившего гуманизма: безмерное определено мерным. Мистическая вертикаль «я — Ты» переведена в антропологическую горизонталь почти равных собеседников. Бог-художник в Барокко, художник-бог в Романтизме, чувственная ткань творения в реализме — все это псевдонимы конечного как ключа к бесконечному. Человек как мера вещей, к радости древнего софиста, утверждает себя и в картезианском «cogito», и в фаустовских играх с Мефистофелем, и в гегелевской абсолютной идее. Трактовка божественного как проекции человеческого (а потом уже «слишком человеческого») — такова субстанция новоевропейского века Разума, закономерно породившего в 1883 году танцующего над пропастью Заратустру.
С указанной точки зрения, авангард начала ХХ века не внес ничего принципиально нового в культурную практику Европы. Собственно модернистский проект антропоцентрической цивилизации уже был представлен гением Возрождения и Романтизма во всех видах творчества и мышления — авангарду осталось лишь довести эту установку до атеистического финала. Проблематика авангарда в искусстве — это именно проблематика смертного гения-«бога», занятого абсолютным монологом — строительством личного космоса. Режущий себе ухо Ван Гог, пишущий «субъективный эпос» в темной комнате Марсель Пруст, созерцающий «Закат Европы» Освальд Шпеглер — таковы некоторые характерные фигуры духовного ландшафта Старого света рубежа Х1Х — ХХ веков. Зрелый модерн — это удел человекобога, погруженного в свое отражение. Отсюда тоска великих модернистов, от Бодлера и Мунка до Бунюэля и Бергмана. Предельно расширив рамки культурного горизонта, поздний модерн включил в культуру всё — и землю, и небо, но именно по причине своей абсолютной власти над миром получил искомое право и землю и небо отвергнуть («сбросить с парохода современности»). Европейский «бог» умер — его место занял самодостаточный человек, символическим знаменем которого явился черный квадрат — эмблема войн и революций ХХ века.
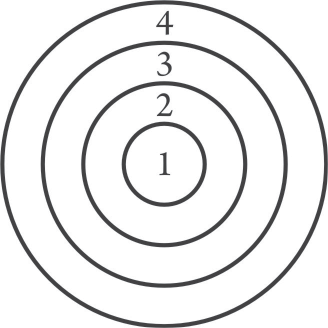
Рис. 2. Строение модернистской цивилизации
- Духовное ядро: вера в человека, человекобог
- Культура: личный или групповой этико-эстетический проект
- Общество: социальное соревнование партийных проектов
- Технология: рыночная конкуренция товарных проектов
Искусство и пост-искусство
Отсюда остается один шаг до постмодерна. Если классика и высокий модерн в Европе — это, несомненно, искусство, хотя и онтологически разное, то постмодерн оказывается уже пост-искусством, «послеискусством». В таком плане постмодернистская семиодинамика странно напоминает древний восточный пантеизм, согласно которому «Ты есть тот» («тат твам аси»), а противоположность любой истины — тоже истина. Так или иначе, как художественно-философская практика постмодерн есть совершенный инструмент уничтожения (приведения к ничто) «бога» и человека. Фуко, Деррида, Делез и другие отцы постмодерна теоретически обосновали коммуникацию без общения, смысл поверх (помимо) смыслоразличения, чтение и письмо как операции с «телефонной книгой», абоненты которой слышат не голоса друг друга, но только собственное эхо. «Другой» в постмодернизме заменил ближнего, но с «другим» мы как раз не в состоянии общаться именно потому, что он другой. Бесконечная перекодировка в иномыслие, перманентная игра несчетного множества текстов (интертекст, гипертекст, борхесовская библиотека-лабиринт) — такова стратегия поставангарда. В духовно-онтологическом плане происходящая на наших глазах драма западной цивилизации есть духовная революция, действительно отменяющая различие между верхом и низом, правым и левым, белым и черным, мужским и женским, просветлением и наваждением, жизнью и смертью. Богом и сатаной. Как полагают теоретики постмодерна, в нынешней культуре присутствует императив горизонтальности; символические структуры типа «высшее/низшее» заведомо обозначены как скомпрометировавшие себя, как не работающие, апелляция к ним расценивается как дурной вкус и обречена на поражение.
Особое место в центре «свободной семиодинамики» занимает информационно-концептуальная власть, принадлежащая в начале XX1 века СМИ, и прежде всего телевидению и интернету. Виртуальная реальность электроники — это жесткое дисциплинарное производство социальной массы (глобального «человейника»), управляющее подсознанием миллионов. Медиакратия является сегодня универсальным инструментом анонимной власти, выстраивающей «общество спектакля», где любая жизненная и культурная ситуация подается как материал для зрелища. Культура XXI века стала культурой призраков (фальшаков, симулякров).
С религиозно-философской точки зрения, описанное состояние «открытого общества» представляет собой пародийное воспроизведение абсолютной всевозможности при утрате божественной природы последнего. «Будете как боги» (Быт. 3,51) — на эту полуправду хитрого змея поддалась «фаустовская» евроатлантическая цивилизация, владеющая в эпоху тотальной коммуникации полом, возрастом, мыслями, унисексом — всем, кроме смерти.
Правда, неверующих людей не существует: не верующие в Бога верят в смерть. Такова цена люциферианского нарциссизма сознания, заменяющего сущности отношениями и очарованного игрой с собственными двойниками. Здесь нет другого, потому что нет и человека как образа Божия.
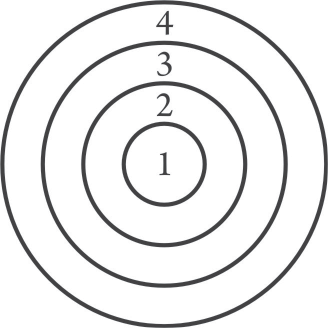
Рис. 3 Строение постмодернистской цивилизации
- Духовное ядро: вера в ничто, перекодировка небытия
- Культура: смысловая игра, означающее без означаемого
- Общество: анонимно-информационное управление социальной массой
- Технология: универсальный сетевой гипертекст
Русский путь
Своеобразие русского пути в большом времени определяется тем, что Россия — не просто христианская страна, а единственная, после падения Восточной Римской империи, суперэтническая православная страна-цивилизация, занимающая более трети материка Евразии. Стран-цивилизаций в современном мире вообще немного: Россия, Китай, Индия, США Израиль. Мы не Европа и не Азия — мы Россия. Это всегда понимали наиболее чуткие русские люди. Владевший европейской мудростью (и отдававший ей должное) А.С.Пушкин отчетливо сознавал что «Россия никогда не имела ничего общего с остальною Европою; история ее требует другой мысли, другой формулы» (1). При всей резкости этого утверждения, его, так или иначе, поддерживали почти все выдающие художники и мыслители России, составившие её славу в мире — Пушкин, Гоголь, Чаадаев, Киреевский, Хомяков, Тютчев, Данилевский, Достоевский, Толстой, Леонтьев, Розанов, Бердяев, Булгаков, Тихомиров, Ильин, Франк, Флоренский, Флоровский, Савицкий, Трубецкой, Лосев, Гумилев, Панарин и многие другие. По слову великого поэта, дипломата и геополитика Федора Ивановича Тютчева, «Россия прежде всего христианская империя. Русский народ — христианин не только в силу православия своих убеждений, но ещё благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. Он — христианин в силу той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция — прежде всего враг христианства!» (2). Под революцией Тютчев здесь имеет в виду генеральную линию новоевропейской (модернистской) истории вообще, покидающей Бога ради человека.
Восточная Церковь и культура никогда не доверяли уединенному (единственному в своем роде) человеческому опыту. В центре религиозного переживания и творческой практики православия находится собор. Согласно определению А. С. Хомякова, истина недоступна отдельному сознанию. Для этого нужна Церковь, которая “не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати”(3). С тех пор, как послы князя Владимира побывали в царьградской Софии и донесли о красоте православной литургии (общего дела), христианская Русь оказывала сопротивление римско-католической, а затем и протестантской дифференциации духовного акта по “точкам зрения”, “дискурсам” и т. п. Апофатика и исихия — божественная тайна и говорящее молчание — оказались для русского монаха, иконописца, мыслителя и художника важнее самых очевидных (логически вынужденных) доказательств богоприсутствия на уровне наличного бытия. Золотая “луковка-свеча» православного храма есть архитектурная эмблема общения в свете Пресвятой Троицы — тихого согласия в любви, в отличие от антропоцентрической воли романо-готических остроугольных шпилей. “Троица” Андрея Рублева — это безмолвная беседа трех ангелов, где слово мистически тождественно тишине как вечное совершение правды: “уже-но-еще-не”.
Вся история Киевской, Московской, Петербургской и отчасти даже советской Руси наполнена желанием удержать это единство от распада, сохранить вертикальную напряженность культуры, избежать любой симуляции — подчас даже ценой отказа от культуры как таковой. Культура (в том числе художественная) — это, как было отмечено выше, всего лишь одна из оболочек цивилизации, ядро которой составляют вера и язык — в нашем случае православная вера и русский язык церковнославянского корня.
В свое время П. Я. Чаадаев и маркиз де Кюстин заметили искусственность европейского обличья петербургской (“серебряной”) Руси, назвав ее империей фасадов. Как мастера критики исторических масок, они были правы: православное сознание уповает на то, что лучше утратить свою свободу в Боге, чем сохранить ее для сатаны. Пожалуй, ярче всего это проявилось у Пушкина, чье творчество стало как бы вызовом собственному грешному гению. Вся поэтическая и личная судьба Пушкина может быть прочитана как путь к истине вместе с его героями и читателями — через общение с ними в любви .
Вообще, явление Пушкина — наряду с явлением Серафима Саровского и Победой 1812 года над коронованной буржуазной революцией в лице Наполеона — по меньшей мере, на целый век уберегло Россию от западнической рационально-юридической деструкции человека. Императорский Петербург, с его регулярными перспективами и фасадами, расчерченными по лекалам Леблона, разумеется, брал свое — но даже на берегах пленительной Невы Медный Всадник гонялся за маленьким человеком вопреки, а не благодаря светским приличиям, а Нос гулял по Невскому так. как будто всю жизнь только это и делал. Хваленый реализм классической русской литературы на самом деле есть общение с духами — то самое, где параллельные линии, по слову Достоевского, сходятся (хотя для близорукого человеческого взгляда это только обман зрения). Как бы то ни было, свою третью столицу — после Киева и Москвы — Святая Русь построила на тех же самых трансцендентных основаниях, что и прежде: Петр Великий со своими всепьянейшими ассамблеями не смог тут ничего изменить. Конечно, в социологическом плане Россия оставалась строго иерархическим социумом. где не только какой-нибудь станционный смотритель, но и, скажем, писатель (к примеру, камер-юнкер Пушкин) был юридически ничтожен перед Царем — однако в отношении мистической вертикали и тот, и другой, и третий оказывались совершенно равны — более того, они соборно общались друг с другом у святой чаши.
Истоки русского коммунизма
Не будет большой ошибкой сказать, что и катаклизм 1917 года в конечном счете был вызван жаждой соборного общения с Истиной, которая под напором капитала лишалась своего метафизического места на земле. Речь идет, разумеется, не о марксистско-ленинско-троцкистской идеологии как таковой (типичная антисистема, по терминологии Л.Н.Гумилева) и не о потугах масонских подмастерьев, а о радости-страданьи (по формуле А. Блока), которые суть одно, и без которых жизнь на Руси никому не мила, будь она хоть трижды свободной и комфортабельной. Собор православной русской цивилизации дал трещину раньше, чем был взорван московский храм Спасителя — но все же лет на пятьсот позже, чем Европа водрузила на своих священных камнях «богиню разума». Предстояние перед Всевышним стоит дорого — за одного битого двух небитых дают. Слово “товарищ” ближе христианскому “брату”, чем почтительный “господин”, куртуазный “сударь” или постмодернистский “другой”. Во всяком случае, у нас не образовалось нейтрального пространства между человеком и Богом, где удобно помещаются антропоцентрические («фаустовские») технологии, и где так приятно жить. Отсутствие в России цивилизованной “буферной зоны” — ее главное отличие как от западного “открытого общества” с его культом экономического человека, так и от восточной “роевой” традиции, для которой сохранение канона, ритуала является главной упорядочивающей заботой. В этом смысле Россия — действительно Последнее Царство (4).
Так или иначе, наша христианская история не кончилась с Петром. Забегая вперед, заметим, что не кончилась она и с Лениным. Однако после Петра Русь как бы раздвоилась: Восток и Запад, Богочеловек и человекобог встретились друг с другом на туманных улицах невской столицы. За два столетия в петербургской России накопилось большое напряжение между содержанием и формой, между тем, «что» и «как» делалось в стране. Начиная с судьбоносной игры слов в названии (5) и кончая «последними днями императорской власти» (6), Санкт-Петербург вел свой трагический империализм к революционной развязке, в которой уже очевидно для всех проступали эсхатологические черты. Двойственность петербургской души имела не только отрицательные последствия — она имела значение двигателя истории.
Не буду повторять здесь известные мыслительные ходы авторов сборника «Вехи» (1909), проследивших тайну превращения социал-демократического европейского учения о благоустройстве земного бытия (т. е. фактически о приспособлении к греху как норме существования) в русскую — православную по истокам — мечту о мировом спасении. «Русский дух насквозь религиозен. Он не знает, собственно, других ценностей, кроме религиозных», — писал один из авторов «Вех» С. Л. Франк в 1930-х годах, уже обладая опытом революционных и послереволюционных событий. На всем протяжении петербургской истории России стремление жить «не так, как хочется, а так, как Бог велит» объединяло у нас славянофилов и западников, материалистов и идеалистов, монархистов и народников. В этом пункте объединялись Герцен и Киреевский, Хомяков и Белинский, Толстой и Бакунин, Достоевский и Тихомиров, Плеханов и Савинков. От трактовки крестьянской общины как зародыша отечественного социализма через призывы к народному восстанию под руководством «критически мыслящих личностей» до культа матери-сырой земли и мужика-богоносца — все это входило в поле сознания (и еще больше подсознания) русской интеллигенции на правах, так сказать, его естественных элементов.
Таким образом, соответственно своей истории и своему духовному строю, Россия испытала, осуществила то, что на Западе в лучшем случае было предметом умозрительных построений и салонных бесед. В русской культуре Серебряного века произошло парадоксальное сращение базовых религиозно-исторических ценностей — и прежде всего идеи праведного бытия (в его народном и интеллигентском вариантах) — с пришедшими с Запада претензиями прагматического использования этого бытия, вплоть до его радикальной переделки. Именно в точке подобного сращения «русский Христос» сблизился с петербургским мифом, образ избранного народа — с пролетариатом-мессией, Карл Маркс — с ветхозаветными пророками и Фридрихом Ницше. Как сказал, уже в преддверии революции, святой Иоанн Кронштадский, «Россию куют беды и напасти. Не напрасно Тот, кто правит всеми народами, искусно, метко кладет на свою наковальню всех подвергаемых Его сильному молоту. Крепись, Россия! Но кайся, молись, плачь горькими слезами перед твоим Небесным Отцом, Которого ты безмерно прогневала!…»(7).
Так или иначе, классическая христианская культура преобладала в России вплоть до 1917 года, и даже Серебряный век с его декадентским эстетизмом этого судьбоносного положения в целом не изменил. Вместе с тем после Февраля и Октября мы вступили в период активного либерально-социалистического эксперимента, когда в смысловой центр культуры методами революционного насилия вместо Бога был поставлен коллективный человек (партия, класс). Собственно, исследованию противоречивой религиозно-ценностной структуры пяти основных видов искусства советского и постсоветского периода (включая русское Зарубежье) и посвящен первый том предлагаемого издания. Не опережая поэтому последующего изложения, заметим только, что указанная фундаментальная антиномия — тайное религиозное ядро и богоборческая идеологическая оболочка — пронизывает всю культуру советского периода снизу доверху, с 1917 года до 1991. Начиная с великой поэмы Александра Блока «Двенадцать» (этого русского апокалипсиса) и вплоть до романов Валентина Распутина, музыки Георгия Свиридова и фильмов Андрея Тарковского, внимательному наблюдателю открывается постоянная — хотя большей частью и углубленная в подтекст — борьба за Христа в светской культуре советского периода. Наряду с нею, столь же упорной в советское время была борьба и против Христа — от «Черного квадрата» (этой иконы небытия) «комиссара по делам искусств» Казимира Малевича до «некрореализма» некоторых опусов позднесоветского авторского кино.
Выделим — достаточно условно, разумеется — несколько главных этапов этой борьбы.
От красного террора к «красному императору»
Советская власть, началась, как известно, с красного террора против религии, государственности, истории и культуры русского народа. Уже в январе 1917 года был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Что касается непосредственно духовенства, то хорошо известны указания Ленина о том, что чем больше представителей реакционного духовенства расстрелять, тем лучше. Ещё в 1913 году Ленин писал Горькому, что всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость и труположество. После победоносной революции, в 1923 году, супруга вождя Крупская, руководившая народным «просвещением», распорядилась изъять из библиотек сочинения многих крупнейших отечественных писателей. Было запрещено преподавание национальной истории в школах, а всё, что было на Руси до «исторического материализма» (и уж тем более до Петра), объявлено мракобесием и темным царством. Большинство представителей классического русского искусства (в отличие от модернистов) эмигрировали тогда за границу (Бунин, Шмелев, Рахманинов, Шаляпин и др.) а православных философов и ученых выслали на «философском пароходе» в Германию. Интернационал-коммунисты нашли страну, которую им было не жалко, рассматривая её как вязанку хвороста для мировой революции.
Однако примерно с 1935 года положение стало меняться. Отказавшись от утопии «без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем», пламенные революционеры — разрушители Империи — постепенно превращались в национал-большевиков (или заменялись ими). Ещё в начале 1920-х годов сменовеховцы и евразийцы отмечали национальный аспект большевизма. К двадцатилетию советской власти о национальном коммунизме как превращенной форме идеи соборной правды написал Н.А.Бердяев в своей известной книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Со своей стороны, поэт-старообрядец Николай Клюев прямо утверждал:
Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декрете…
Именно эту сторону большевизма выдвинул на первый план Сталин. Сталинский переворот в советской идеологии и культуре в некоторых отношениях сопоставим с цивилизационной революцией Петра, хотя Петр смотрел на Запад, а Сталин, наоборот, на Восток. Случайно или нет молодой Иосиф Джугашвили учился в духовной семинарии — Бог ведает, однако его мышление оказалось иным, чем у ленинистов-троцкистов. Будучи таким же «демоном революции», как и они, Сталин начал оперировать другими — государственными категориями. Террор, разумеется, продолжался, и даже усиливался, но уже под державными знаменами. Бывший революционный боевик к концу 1930-х годов стал единоличным диктатором, а несколько позже — генералиссимусом и «красным императором». «Хитрость истории» проявилась здесь очевиднейшим образом: как вождь революционного авангарда (партия — орден меченосцев), Сталин, несомненно, осуществлял модернистский социальный проект, однако вольно или невольно он актуализировал одну их скрытых движущих сил этого проекта — классическую русскую соборно-монархическую традицияю (8). В этом, между прочим, отличие Сталина от Наполеона — этого коронованного генерала французской буржуазной революции.
Как бы то ни было, в 1934 году были возобновлены занятия по истории в школах, а также восстановлены исторические факультеты в университетах. Вульгарно-социологическую «школу Покровского» отодвинули в сторону. Литература, музыка, театр, живопись, кино начали приобретать более традиционный вид. Была закрыта, например, постановка кощунственных «Богатырей» Д.Бедного, тогда как на представлениях «белогвардейских» «Дней Турбиных» М. Булгакова Сталин лично побывал более десяти раз. Жестоко пострадали театр Мейерхольда и сам Мейерхольд, Клюев, Пильняк, Мандельштам, многие другие. Однако творили Прокофьев и Шостакович, Шолохов и Пастернак, Корин и Пластов. Знаковым событием в изменении идеологического ландшафта явилось празднование в 1937 году столетнего юбилея Пушкина, и выход вслед за тем на экраны «Александра Невского» Эйзенштейна, с его генеральной темой русского патриотизма. Журнал «Безбожник» прекратил своё существование в 1941 году (вместе с одноименным обществом). В сентябре 1943-го Сталин собрал в Кремле немногих оставшихся в живых церковных иерархов. Результатом этой встречи явилось восстановление в СССР православного патриаршества в полном объеме. Примерно тогда же вместо Интернационала советским гимном стала песня, славившая Великую Русь.
Делалось всё это во многом из конъюнктурно-политических и военных соображений, однако из песни слова не выкинешь. Нравится это кому-либо или нет, национал-большевики вытянули Россию из болота, в которую её загнали в феврале 1917 года взбунтовавшиеся либералы и социалисты («фармацевты», по ироническому замечанию Блока). Причем у новой власти не было колоний и волшебных источников нефти, все приходилось делать на энтузиазме, страхе и рабском труде. При осмыслении советской истории 30-х — 50-х годов ХХ столетия следует решительно отвергнуть как тупой сталинизм в стиле «культа личности», так и патологический антисталинизм в кругозоре кухонного диссидентства. К несчастью, в России не нашлось других исторических и культурных сил, которые осуществили бы воссоздание страны после революционного погрома другими, более гуманными — не говоря уже о христианских — средствами. Надо ясно понимать, что своим сегодняшним существованием мы, живущие в ХХ1 веке, обязаны тем самым «советским» людям, которые в 1936 году голосовали за сталинскую конституцию, а в 1945 ценой своей жизни спасали буржуазную Европу от окончательного решения еврейского, славянского и других расовых вопросов. Это были одни и те же люди, один и тот же народ. Это ими восхищался автор котрреволюционных «Окаянных дней» Иван Бунин, публично приветствуя в парижском театре советского офицера. А «философ свободы и неравенства» Бердяев вообще поднял над своим домом в Кламаре красный флаг. Правда, на Родину они не вернулись…
Русское чудо ХХ века заключается в том, что мировоззренческий и политический революционный модерн в православной стране оказался, в конечном счете, идеологической оболочкой (преввращенной формой) совсем иного ценностного содержания. Вопреки сатанинской политике интернационал-коммунистов и обосновывающей её марксистско-ленинско-троцкистской теории мировой революции, драгоценное христианское ядро отечественной литературы, музыки, живописи, театра не было утеряно, но сохранило себя, подобно граду Китежу при приближении монголов. Третий Рим не весь стал Третьим Интернационалом. Наряду с колоссальным антихристианским/антирусским напором (надо ли цитировать кощунственные строки некоего Джека Алтаузена о Минине и Пожарском или пассажи из книги М. Покровского «История России»?), русские писатели и художники советского периода улавливали в шуме и ярости своей эпохи отнюдь не только классовые ноты. Официально атеистическая, и поначалу даже воинственно безбожная, советская культура граничила на своей духовно-онтологической глубине с тайной христианской надеждой, часто не осознаваемой в качестве таковой ни властью, ни читателями/зрителями/слушателями, ни даже самими художниками. С этим связаны вершины и пропасти советской эпохи нашей национальной истории.
О советской истории и культуре не удается судить по формальному принципу «черное — белое» (9). Красная «Совдепия», к изумлению интернационал-коммунистов, в 1945 году стала советской Россией и одержала победу над самой страшной антихристианской и антинациональной силой, когда-либо надвигавшейся на Русь — оккультным нордическим рейхом. В 1961 году смоленский паренек Юрий Гагарин первым вышел в космос. Советская культура — и вся цивилизация под названием СССР —оказалась во многом русифицирована, и в 1960-х — 80-х годах вполне могла стать национальной цивилизацией и культурой.
Мифология «оттепели» и «застоя»
К сожалению, этого не случилось. Более того, в конце 1950 — начале 1960-х годов устами «пламенного ленинца» (и кровавого палача сталинских времен) Никиты Хрущева была провозглашена политика возврата к ленинским нормам партийно-общественной и культурной жизни, что на деле означало возврат к эпохе крайнего национального нигилизма и безбожия. Вернув узников ГУЛАГа из лагерей и предоставив творческой интеллигенции некоторую свободу, Хрущев в то же время воздвиг такие гонения на русскую православную Церковь, которые по масштабам приближались к ленинским. Священников, правда, физически уже не убивали. По приказу «Никиты кукурузного», как советские люди называли партийного генсека, на рубеже 50-х — 60-х годов было закрыты тысячи церквей по всей стране, почти прекращено церковное образование. На фоне успехов в космосе Хрущев обещал показать по телевидению последнего попа…
При этом в официальных советских изданиях ругали модернизм, а Хрущев устраивал свои знаменитые скандалы по поводу модернистских живописных выставок и стихов («бульдозерные» разгоны и т.п.). Имели место и более серьёзные акции. В 1960-годах появились манифесты заслуженного марксиста М.А.Лифшица под названиями «Почему я не модернист?» и «Кризис безобразия». В этих выступлениях содержалось немало верного, за исключением главного — отказа признать марксизм-ленинизм одним из ключевых направлений модерна как типа сознания. Модерн, как мы видели выше, есть принцип конструирования мира из человека, сведение первого ко второму. Модерн — это человекоцентризм: человек = Бог. И если «нет объекта без субъекта», то не всё ли равно, кто этим субъектом является — отдельное человеческое сознание или, например, сознание классовое, групповое, субкультурное и т. п? Марксизм-ленинизм и порожденная им «пролетарская» мифология явились, по сути, таким же порождением модерна, как, скажем, либерализм или национал-социализм — только субъекты тут разные. Русская революция и вся последующая история советской власти — это история социально-культурного модерна, точно так же, как история американского буржуазного мифа или мифа европейско-националистического (итальянского, германского, испанского, португальского). Иосиф Сталин пытался, правда, опереться в своей политике на другие силы — в том числе религиозные — но у него это неизбежно принимало половинчатый и лукавый характер.
Указанных духовных связей категорически не понимали (а если понимали, то отвергали) господствовавшие во времена «оттепели» в культуре т. н. «шестидесятники». Они искренне полагали себя передовыми интеллигентами, противостоящими чудищу тоталитарной власти, не допуская при этом мысли о собственном генетическом родстве с ней. Они пели песни Окуджавы о «комиссарах в пыльных шлемах», как будто забывая о том, к чему привела Россию деятельность этих самых комиссаров, превративших национальную войну в классовый геноцид народа. Они превозносили творчество авангардистов начала ХХ столетия, не обращая внимания на то, что и Маяковский, и Мейерхольд, и Малевич, и вообще весь модерн Серебряного века был не только сторонником революции, но её активным проводником и «тайным агентом» в русской культуре («ваше слово, товарищ маузер»). Разрушив скрепы традиционной русской православной монархии, модернисты пошли в деструкции до конца, породив в реальности такие «мутные лики», какие не представлялись даже во сне (разве что Достоевский в «Бесах» увидел). Как писал в своё время мудрый Г.П.Федотов, Пикассо и Стравинский в искусстве — то же самое, что Ленин и Муссолини в политике (10).
Конечно, к 70-м — 80-м годам ХХ века острота этих определений несколько стерлась. Советская сверхдержава, поставившая устами генсека своей целью «догнать и перегнать Америку по производству продукции на душу населения», стремительно обуржуазивалась. Бывшие «инженеры человеческих душ» вопрошали в романах и на экране «что с нами происходит?» и воспевали бескорыстных идеалистов, однако на практике дилемма «искусство или совесть» неуклонно смещалась в сторону искусства. Гению позволено всё — вот типично модернистские лозунги советской «образованщины» 1960-х годов. Фигура тогдашнего «короля эстрадной поэзии» (а позднее обитателя США) Евтушенко в этом плане весьма характерна. Лауреат Государственной премии и любимый баловень московского начальства, он всю жизнь разоблачал «наследников Сталина». Примерно тем же занимался Вознесенский, начав с поэмы о Ленине и кончив признанием, что в нем «живет семь я». Это были отнюдь не бездарные люди, но их социокультурный горизонт, как правило, не выходил за пределы либеральных штампов. Уже в следующем поколении они получили в качестве расплаты тотальный постмодернистский перформанс, в котором сделался предметом пародирования сам модерн («папино кино»).
Вместе с тем именно 1960-80-е годы остались в истории русской культуры как один из наиболее плодотворных её периодов. Именно тогда были опубликованы «За далью — даль» А.Твардовского и написан «Доктор Живаго» Б.Пастернака («лирический эпос» верующего поэта), созданы лучшие произведения Г. Свиридова, В.Гаврилина, А.Шнитке, сняты великие фильмы Г. Чухрая, А.Тарковского, С.Бондарчука, В Шукшина. Напряженно работал А.Солженицын — при всей спорности его концепций. Расцвела т.н. «деревенская» (а на самом деле православная) проза и поэзия — В.Астафьева, В.Белова, Е.Носова, В.Распутина, Н.Рубцова. В лице «деревенщиков» за перо — и какое перо! — взялся уже уничтоженный, казалось бы, в ХХ веке русский крестьянин (христианин)…
Борьба за Христа и против Христа велась и ведется в русском искусстве при всех образах правления — и царском, и советском, и постсоветском. Поэт у нас действительно больше, чем поэт.
«Перестройка» и постмодерн
«Крот истории» как известно, роет глубоко. В 1970-х — начале 1980-х годов СССР находился на вершине своего глобального военно-политического могущества, будучи одной из двух сверхдержав. Без его позволения действительно ни одна пушка не стреляла. Однако внутри страны — — прежде всего в пространстве её национального духа и культуры — происходили сложные процессы.
Во Введении к настоящей книге нет места для системного анализа этих процессов, тем более, что в последующем изложении они будут рассмотрены на соответствующем художественно-культурном материале. Скажем кратко, что во второй половине 1980-х годов Советский Союз потерпел не хозяйственный, а прежде всего идейный крах. Это была идеократическая держава, стоявшая не столько на экономике (вопреки «основоположнику» Марксу), сколько именно на идеологии и политике. Однако со временем напряженность идейного принципа — веры в земной рай-коммунизм как превращенная форма народного православия — стала ослабевать. Властвующая элита (партноменклатура) не желала больше ждать всеобщего счастья, и просто конвертировала своё политическое господство в капитал. И первой жертвой этого «символического обмена» оказалось многовековая отечественная государственность вместе с традиционной (и отчасти модернистской) национальной культурой. Ещё в начале 1960-х годов Хрущёв обещал догнать и перегнать Америку по производству продукции на душу населения. Это было соревнование по правилам противника, которое заведомо не могло быть выиграно. В середине 1980-годов последний генсек КПСС Михаил Горбачёв провозгласил «перестройку», в результате которой СССР был разрушен, крупная промышленность и стратегические ресурсы стали частной собственностью компрадорской буржуазии (из той же номенклатуры), а русский народ в результате «шоковой терапии» начал вымирать со скоростью примерно 1 000 000 человек в год. Конечно, для подобного переворота потребовалась соответствующая (под знаком глобализма) «перестройка мозгов», которую и взяла на себя либеральная интеллигенция — прежде всего творческая.
Не будем здесь останавливать на всех этих «соц-артах» и «концептуализмах», которыми художники и поэты конца 1980 — начала 1990-х годов мостили идеологическую дорогу новой власти. Об этом будет сказано ниже. Отметим только, что для решения этой задачи понадобился постмодерн как тип сознания и постмодернизм как метод/направление/стиль художественной практики.
Выше мы видели, что постмодерн есть прежде всего утрата духовной вертикали культуры. Классическое русское искусство (даже в самых мрачных своих творениях) видело свет бытия, искало и находило его религиозную истину. Модернизм отвернулся от соборной истины и красоты, утвердившись на антропоцентрической («гениальной») позиции, согласно которой истина/красота не существует, а конструируется руками и разумом человека. В постмодерне этот круг замкнулся на использовании искусства в «жизни-после-смерти». Бытие и творчество в постмодерне мертвы, их не воскресить, но можно воспользоваться их остатками — поставить, например, иронический детектив в декорациях ХУ111 века, или построить из стекла и стали дом в стиле рококо. Постмодернизм смеется там, где модернизм был серьезен: идеями — даже нигилистическими и тем более революционными — можно жить, тогда как смыслами можно только играть. Мышление художника-постмодерниста включает в себя любую ценность— от фольклорной до абсурдистской, но только путем снижающего ее отношения к иному. Здесь встречаются все направления и имена, от «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна до псевдохристианской апофатики и древнекитайской «Книги перемен». Комедия приравнивается к трагедии, трагедия — к комедии, красота — к уродству, реальность — ко сну.
Нечто вроде манифеста российского постмодерна опубликовал в разгар «перестройки» (конец 1980-х годов) литератор М. Эпштейн под названием «Теоретические фантазии»(11). Две главные мишени выбрал автор: идею истины и русскую хандру. Что касается первой, то критик вместо устаревшей истины предложил некую «софиосферу», где примиряются любые идейные противники: «Никакой моноязык, никакой метод уже не могут всерьез претендовать на полное овладение реальностью, на вытеснение других метод, им предшествовавших… Никому не придет в голову утверждать, что одна клавиша рояля лучше (“прогрессивнее”, “истиннее”) другой — все они равно необходимы для того, чтобы могла звучать музыка».64
Попросту говоря, это означает, что одинаково правы страстотерпец и эстет, богослов и безбожник, герой и злодей. Что нет смысла различать утверждение и отрицание, Бога и сатану. Более того, их надо «уравнять», то есть поместить под одну обложку или представить на одной выставке в духе «кристального дворца», который когда-то привиделся Достоевскому в качестве символа мертвого будущего. Тогда наступит постмодернистский рай, прилетит птица Каган. Тогда некрореализм объединится с виртуальной магией, и они вместе отпразднуют победу над историей и ее смыслом.
Вторая цель критики М. Эпштейна — тоскующая русская душа. Автор видит в ней национальный недуг, проблему этнической патопсихологии. «Русская литература, как, пожалуй, ни одна другая литература мира, дает разнообразнейший материал для углубленного изучения этих состояний, на каких бы социальных и культурных уровнях они не проявлялись».66 Долгие песни ямщика, Пушкин со своим скучающим Онегиным, Гоголь с его бесконечной ширью, Блок с «тоской безбрежной», наконец, Платонов с его «Котлованом» и «Чевенгуром»… Во всем этом, по мнению критика, проглядывают черты какой-то «метафизической лишности», и не победить ее ничем — хотя бы тем же разгульем удалым. Более того, они неотрывны друг от друга: хандра переходит в богатырство, разгул — в тоску. «Так они и переливаются, жутко сказать, из пустого в порожнее, из раздолья в запустение — на всем протяжении русской тоскующей и гордящейся мысли»(12). Не отсюда ли берутся войны? Революции? Самоуничтожение? — спрашивал М. Эпштейн.
Это уже серьезно. В 1920-х годах сбрасывали Пушкина с корабля современности, потом — милостиво согласились взять его в «попутчики» под видом «критического реалиста», обличителя дворян и «лишних людей». Постмодернисты 1990-х просто записали его в метафизический расход (в Петербурге, например, начал выходит журнал «Дантес»). Ничего, кроме тоски и разгула, не усмотрели постмодернисты на Руси — ни в ее фольклоре, ни в ее высокой поэзии, ни в православной вере. «Чего мне ждать? Тоска, тоска!…»
Таким образом, именно в конце 1980-х — начале 1990-х годов часть «продвинутой» интеллигенции («креативного класса», как теперь выражаются) перьями своих идеологов расписалась в том, что она не понимает и не ценит духовных оснований России. Логика постмодерна привела её не только к отрицанию русской истории, но и к сомнению в самом праве России на участие в глобальном «символическом обмене». Что, в самом деле, может родиться от сочетания тоски с разгулом?
Современный этап русской культуры
Сказанное, разумеется, не означает, что христианская энергетика в русском искусстве иссякла. Бог поругаем не бывает. Действительная, а не мифическая особенность России состоит в том, что у нас три фундаментальные религиозно-культурные установки — классическая, модернистская и постмодернистская — сосуществуют в ХХ — начале ХХ1 века в рамках одной страны-цивилизации. В католическо-протестантской Европе указанные типы сознания/творчества достаточно отчетливо (хотя, конечно, не абсолютно) разнесены по времени: христианская классика приходится на Средние века, модерн — на Новое время, постмодерн — на вторую половину прошлого столетия и начало нынешнего. Что касается России, то она оставались своего рода «новой Византией» вплоть до начала XX столетия, с трудом переваривая насильственную петровскую модернизацию и создавая в споре с ней свою национальную культуру петербургского периода. Более того, мы оставались «новой Византией» в некотором отношении и после февраля-октября 1917-го, когда еще более жестокий коммунистический модерн поначалу чуть не убил страну, но затем был русифицирован до такой степени, что переродился в некое подобие «красной империи». Чтобы разрушить этот парадоксальный религиозно-культурный синтез, понадобились все нигилистические ресурсы постмодерна, где любая мысль («клавиша рояля») звучит по мере восприятия её со стороны чужой и парадирующей её амбивалентности. Так под знаком «свободной семиодинамики» в 2000-е годы в российской культуре сформировался мощный неолиберальный сегмент, творческая стратегия которого покоится именно на подчеркнутой относительности слов, выдаваемой за суть дела.
Результатом, конечно, стало фактическое и юридическое размежевание отечественной художественной культуры, пришедшееся на первое десятилетие нового века. Разделились творческие союзы, театры, киностудии, газеты, толстые журналы. Читатели (и сами писатели, конечно) ныне хорошо знают, каких произведений ждать, например, от «Нового мира», а каких от «Москвы», что печатают в «Звезде», а что в «Родной Ладоге». От театра под руководством Юрия Соломина не требуют того, чего от труппы Кирилла Серебренникова, а в Союзе писателей России господствуют совсем иные нравы, чем, например, в Союзе писателей Санкт-Петербурга, хотя располагаются они в одном здании.
Выражаясь более категориально, приходится констатировать, что содержательное — и прежде всего религиозно-мировоззренческое — разделение национальной культурной практики в России последних двух десятилетий произошло именно по линии классика — модерн — постмодерн, хотя происходило оно в одном и том же цивилизационном пространстве, среди людей, говорящих на едином русском языке. Сегодня на отечественной арт-территории представлены и радикальные панк-группы, и брутальный модерн т.н. «новой драмы», и скандальные «перформансы» с кровью, и много ещё чего в этом роде.
Вместе с тем сущностная — по промыслу Божию — основа русской цивилизации проявляется в том, что в современной России, вопреки жесткому давлению авангарда/поставангарда, продолжают существовать и развиваться православные по своим истокам литература, кино, живопись, музыка, искусствоведческая и философская мысль. Приведем пока только для примера несколько имен — кинорежиссера Никиты Михалкова, художника Ильи Глазунова, композитора Владимира Мартынова. Большой вклад в национальную культуру внесли в последнее время выдающиеся служители Церкви — митрополит Волоколамский Илларион со своей ораторией «Страсти по Матфею» и архимандрит Тихон (Шевкунов), документальный роман которого «Несвятые святые» стал едва ли не самой читаемой книгой 2011 года. Вопреки холодному западному рационализму (не говоря уже о постмодернизме), для которого юридически равнозначны молитвы Богу и камлание сатане, и нет различия между церковным браком и гомосексуальным союзом, у нас продолжается борьба духов. Не случайно в сторону нашей страны в последнее время обращаются надежды многих христиан Европы. На протяжении почти всей своей истории Россия была — и в ХХ1 веке имеет шанс стать вновь — альтернативным религиозным и цивилизационным центром мира.
Что касается русского Зарубежья ХХ века, то все описанные процессы протекали там, разумеется, иначе. Русская культура в эмиграции «унесла Родину на подошвах своих сапог» (по выражению Романа Гуля), но, конечно, она не оставалась в стороне от судьбоносных изменений, происходивших в Отечестве и во всем мире. В эмиграции была своя христианская классика (Шмелев, Зайцев), работали Бунин и Мережковский, сочинял музыку Рахманинов, пел Шаляпин. Однако в творчестве Владимира Набокова, например, отчетливо проступили модернистские и даже постмодернистские черты. Ниже мы по возможности проследим единство и различие христианской тематики русской культуры в Отечестве и в Зарубежье. Главное, чего не знала заграничная Россия — это кровавого террора богоборческой власти 1920-х — 1940-х годов, равно как и навязчивого идеологического диктата более позднего периода. Однако борьба христианских и антихристианских сил и там проходила — и проходит — красной нитью сквозь ядро культуры вплоть до настоящего времени. В огне, как говорят, брода нет.
Заключая статью, отметим главное. В современном мире на глазах падает духовный уровень человека и человечества. Не будем перечислять нравственно-эстетические признаки этого падения: они очевидны. В некотором смысле конец культуры уже произошел, только не все это заметили. Современное русское национальное искусство — одно из немногих в ХХI веке — противостоит духовному и социальному распаду. Видеть бытие в Божьем луче, а не в сатанинской злобе или смехе — это подвиг художника, особенно в наше апокалиптическое время. Постмодернистская игра со злом — вплоть до танцев в храме Христа Спасителя — это духовное оборотничество, переворачивание ценностной иерархии. Свобода творчества обращается здесь в «веселую относительность» — тревожный знак небытия. Русскую культуру ждут трудные времена, если она своё законное стремление к вольномыслию не сумеет соотнести с различением духов, если она свободу предпочтет истине.
Вместе с тем история — слишком серьёзное дело, чтобы доверять её только человеку. Человек предполагает, а Бог располагает. Правильно заметил в своё время Федор Тютчев: «Апология России… Боже мой! Эту задачу принял на себя Мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор вполне успешно». Он выполняет её и поныне.
Примечания
- А.С.Пушкин. О втором томе «Истории русского народа» Н.А. Полевого // Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. М., 1982. Т. 6.. С. 415 — 416.
- Ф.И.Тютчев. Россия и революция // Сочинения Тютчева Ф. И. Стихотворения и политические статьи. СПб., 1900. С. 475.
- А.С.Хомяков. Церковь одна // Хомяков А.С. Сочинения. В 2 т. Т.2. М.,1994. С.5.
- Подробнее см.: Казин А.Л. Последнее Царство. Русская православная цивилизация. СПб., «Наука», 1998. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.
- См. об этом: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык средневековья. М., 1982.
- См.: Блок А. Последние дни императорской власти // Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6.
- Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. М., 1993. С. 255.
- См.: Солоневич И.Л. Народная монархия. М.,1991.
- Подробнее см.: А.Л. Казин. Антиномии русской судьбы // Казин А.Л. Русские чудеса. СПб., «Петрополис», 2010.
- Г.П.Федотов. Четверодневный Лазарь // Вопросы литературы. 1990. №2. С.226.
- М. Эпштейн. Теоретические фантазии // Искусство кино. 1988. №7. С. 70 — 71.
- Там же. С.76.
- Подробное исследование затронутой проблематики содержится в коллективном труде «Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ — начала ХХ1 века». Т. 1 — 3. Редактор-составитель А Л. Казин. Изд. «Алетейя» и «Петрополис». СПб., 2016 — 2018.











