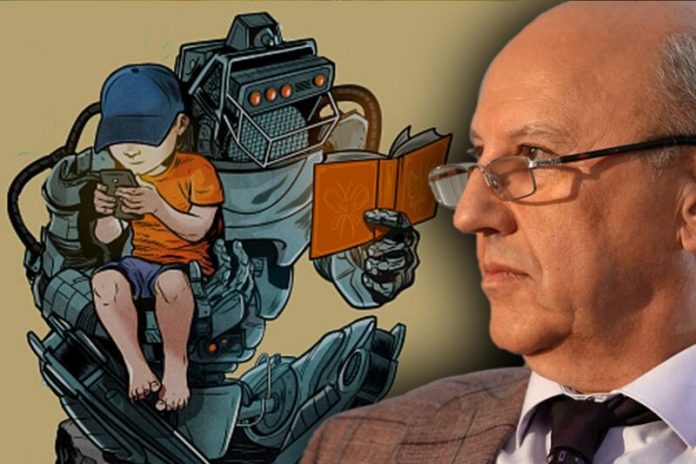
Я глубоко убеждён, что полноценное воспитание может дать только семья. А мы сейчас сталкиваемся с кризисом семьи. И это очень серьёзная проблема. Советская школа была построена на комбинации воспитания и образования. Но в девяностые годы было провозглашено, что воспитание — это тоталитаризм. Образование должно заниматься только образованием, а воспитывать должен кто угодно — семья, улица, но школа не должна воспитывать. Я думаю, что это заблуждение.
Я неоднократно преподавал в США, в Европе. И я вижу — и у российских детей, и у американских, у французских, — идёт процесс социального одичания. В СССР существовала система — октябрята, пионеры, комсомольцы, — она, в общем, дала свои результаты. Я воспитывался в довольно счастливое для советской системы время. Я родился в 51-м году, и 60-е и 70-е годы. Это было время, когда страха уже не было, но ещё не пришёл эгоизм, — был хороший коллективизм.
Я помню свою простую подмосковную школу, у нас было огромное количество кружков, был Дом пионеров. То есть государство заботилось о том, чтобы занять детей, занять позитивно, дети занимались в секциях. Но потом это все рухнуло, и сейчас этого нет. Бывшего министра образования, господина Фурсенко, спрашивали: «Почему Вы не восстанавливаете советскую систему образования?» Он сказал: «У нас нет денег на советскую систему образования». То есть, это ещё и проблема финансов.
В школе обязательно нужна общеразвивающая физкультура: лыжи, баскетбол, лёгкая атлетика. Но я бы ещё добавил сюда ГТО «Готов к труду и обороне». С другой стороны, ребёнку с детства необходимо прививать любовь к музыке. Я очень люблю Карлоса Гарделя, танго, 20-е годы Аргентины. Я очень люблю Баха, Бетховена, Вагнера.
Дети должны знать музыку. У меня жена по специальности музыкант. Она дирижёр по специальности, работала в музыкальной школе. И она говорит, что в последние годы, она ушла в 2013 году… Последние 3-4 года стали приходить дети, дети 10-ти, 11-ти летние и начали говорить: «Ну, что Вы нам рассказываете! Классика, Чайковский, Бах… А вот для нас классика — Пугачёва». Этого не должно быть. Классика — это классика.
У детей нужно воспитывать вкус. Знать, кто такой Мусоргский, кто такой Рахманинов, Чайковский, Вагнер ты должен. Ты можешь не знать, кто такой Шнитке, например, или Малер. Это такая какофоническая музыка. А русскую классическую музыку, которая заканчивается у нас Свиридовым, замечательным композитором, нужно знать обязательно. Так же как, кстати, и историю живописи. Понимать, что вот Шишкин, например, или Васнецов. А вот «Квадрат» Малевича, который можно выкинуть в окно. Вот Шагал, которого тоже можно выкинуть в окно.
Когда я учился в последних двух, в 9-10-м, классах к нам приходили ветераны Великой Отечественной войны, рассказывали о войне. Я думаю, было бы неплохо, если бы к ребятам приходили те люди, которые сейчас возвращаются с фронта, и рассказывали бы об этой ситуации. Также приходили бы люди различных профессий. В принципе, это должно быть частью более широкой программы, это должно быть вписано в систему. Но сам по себе факт приглашения людей, которые к школьникам, уже делающим выбор, приходили и рассказывали о жизни, это было бы правильно.
Вопрос, который нельзя не затронуть, это новейшие технологии. На мой взгляд, гаджеты приносят молодому поколению девяносто процентов плохого и десять хорошего. Дети, проводящие время с клавиатурой или даже планшетами, совсем не работают ручкой, что особенно важно в возрасте до 10 лет. Потому что процесс писания, физиологически очень сложный, тренирует левое полушарие у правшей и правое у левшей. Если чадо не пройдёт школы чистописания, то у ребёнка будет недоразвито одно из полушарий. Про нагрузку на глаза я скромно умалчиваю — врачи в ужасе.
В времена античности было много интересных автоматов, использующихся преимущественно для игры. Современные гаджеты, к сожалению, наша молодёжь тоже использует в основном для игр. Мне трудно сказать, насколько тесная дружба моих студентов с девайсами и гаджетами. У многих есть планшеты, смартфон у каждого. Однако я, преподавая с 1972 года, успел заметить, как почерк студентов изменился в худшую сторону. А ведь некрасивый почерк в 9 случаев из 10 — это недосформированный характер, недоразвитый психотип. Меня волнует не то, сколько хорошего принесли нам новые устройства, а резко упавший уровень образования.
Дело в том, что университетский преподаватель — это человек, забивающий гвозди в стену. С 90-х годов этих гвоздей нужно было все больше и больше. Но сейчас проблема простейшая: нет стены, ее нужно возводить заново. Правда, пока построишь — студент уже заканчивает бакалавриат и мы с ним прощаемся. Самое обидное, что ушёл не интеллект, а стремление к его развитию. Я не говорю об общей эрудиции. Я и мои сверстники выросли на семи журналах: «Знание — сила», «Техника молодежи», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Юный техник» и «Юный натуралист». Чтение этих журналов расширяло кругозор.
Но сейчас дети, в большинстве своём, не развивают эрудицию. В конце прошлого тысячелетия в процессе обучения я приводил в пример схемы развития футбола (переход к тотальному футболу) и западного кино. Нынешний молодняк, если даже и увлекается футболом, ничего не знает о его истории. Я постоянно борюсь с искушением спросить молодых людей: «Что же вы делаете в свободное время?» Безусловно, есть очень талантливые и толковые дети, но уровень образования массовки резко понизился.
Недавно директор одного из факультетов МГУ сказал преподавателям, что нужно как можно больше визуализации. Дети сейчас идут визуалы, и нужно, как можно, больше визуализации. Это заход в догутенберговские времена. Вот вам картинка, реагируйте на картинку. Это и есть создание касты дебилов, на самом деле! Процесс абсолютно понятен.
Я помню, когда издавался журнал «Политический класс». И у меня там шла статья «Конспирология — весёлая и строгая наука». Она была большая, там было очень много цветных фотографий. Я говорю: «Только, пожалуйста, уберите цветные фотографии и дайте больше текста». Мне сказали: «Нет, наш главный читатель — администрация президента, они воспринимают текст с картинками». То есть этот процесс действительно реален.
Несмотря на все разговоры, пока что процесс в образовании идёт не в ту сторону, в которую мне хотелось бы. Но с точки зрения логики вот этой системы, жизни в условиях асимптоты, а не экспоненты, знание должно действительно стать закрытым. Ведь смотрите, что произошло в конце XV века, знание из университетов ушло в королевское общество. И только после индустриальной революции, уже на буржуазной основе, возникли Оксфорд и Кембридж в том виде, в котором они сейчас существуют.
XVII–XVIII века… Это как Гэндальф говорит во «Властелине колец» про кольцо: Keep It Secret, Keep It Safe. То же самое про знание было сказано. Знание не нужно всем. То, что сейчас происходит в университетско-образовательном мире, это и есть закрытие знания. Я читал лекции в приличных американских вузах — Йельском, Колумбийском. Уже тогда, в конце 90-х — начале нулевых, было видно, что вбрасывается… Гендерные отношения. А вот «Методология социальных исследований» — это для очень узкого круга. Марксизм — для узкого круга. А для остальных — «экономикс». У нас политэкономия ушла в 90-е годы, вместо неё «бухгалтерская экономика». То есть пока что, какие бы наработки ни были у меня, ещё у каких-то людей, пока что логика образования идёт в другом направлении.













